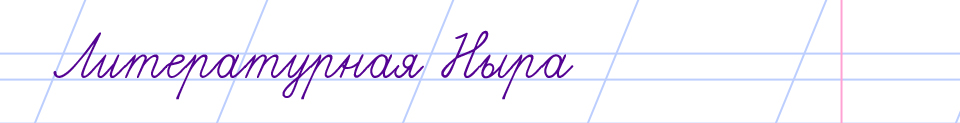В связи с сегодняшней дискуссией вспомнил серию своих постов с концепцией эстетической парадигмы.
Эстетическая парадигма
Что из себя представляет на деле концепция смерти автора? Она гораздо глубже, чем представляется в контексте теории деконструкции или полифоничности. Смерть автора — это поворот в понимании искусства от вопроса зачем и кем оно создаётся к вопросу как и кем оно воспринимается. Смерть автора — это жизнь искусства в культуре.
Ключевой тезис здесь таков: влияние произведения искусства на искусство и культуру зависит не от того, каким видит его автор, а от того, как понимает его читатель.
А у каждого читателя собственные эстетические, интеллектуальные и идеологические предпочтения и установки. Если учесть, что искусство в первую очередь преследует эстетическую цель, то весь этот комплекс установок по отношению к искусству можно назвать эстетической парадигмой.
Выразимся точнее: Эстетическая парадигма (ЭП) — это комплекс идеологических, интеллектуальных, этических и эстетических установок и предпочтений конкретного субъекта, в соответствии с которым этот субъект воспринимает, интерпретирует и оценивает произведение искусства.
Обратите внимание: и оценивает. Смерть автора исправляет известное выражение Пушкина: произведение художника (а не самого художника) необходимо судить по тем законам, которые установил ты сам (а не художник). И именно это суждение будет актуальным для бытования произведения в твоём культурном пространстве.
Из взаимодействий личных культурных пространств строятся более крупные пространства; воспринимающие субъекты составляют референтные группы с собственными генеральными ЭП и культурными пространствами. Это не группы читателей конкретных авторов — это группы читателей с определённой ЭП, которой поверяются произведения (не авторы, хотя, конечно, с определённым автором связан некий ореол (свой-не свой, хороший-плохой), который может сильно повлиять на восприятие конкретного произведения).
Крупные же группы вступают в некое подобие конкурентной борьбы за генерализацию собственной ЭП, которая (генерализация) определяет характер и силу влияния этой парадигмы на культуру. Любой критик — пиарщик конкретной ЭП.
Главный вывод отсюда: не существует никаких объективных критериев качества искусства, есть лишь критерии определённой ЭП. При этом, чем генеральней для культуры ЭП, тем менее оспариваемыми и более "объективными" кажутся обывателю критерии. Когда идёт речь о "хорошем" и "плохом" искусстве, имеется в виду хорошее и плохое, удачное и неудачное, качественное и некачественное в рамках определённой ЭП.
Другой вывод касается истории искусства: генеральная история отражает лишь смену генеральных парадигм с точки зрения современной генеральной парадигмы, оставляя на периферии много других, возможно, не менее значимых парадигм.
Это во многом компрометирует понятия таланта и гениальности: речь может идти лишь о таланте и гениальности в рамках некой (обычно генеральной или близкой к ней альтернативной) ЭП.
***
Что такое ирония? Ирония возникает, когда читатель по каким-то причинам считает, что автор говорит несерьёзно. Если читатель считает иначе, никакой иронии нет: текст воспринимается со всей серьёзностью и реакция на него будет как на серьёзный текст.
Что такое трагедия? Трагедия там, где читатель понимает и воспринимает её, где он испытывает тот самый катарсис или хотя бы понимает, что этот катарсис надо испытывать (но в этом случае, скорее всего, читатель дискредитирует "качество" трагедии). Однако стоит читателю отнестись к трагедии как к иронии, и она (трагедия) превращается в фарс.
Установки автора не играют никакой роли. Автор — тоже читатель, он воспринимает тот текст, который пишет, исходя из собственных установок. Но другой читатель будет воспринимать его по-другом, исходя из иных установок. Можно говорить о различных формальных маркерах иронии или трагедии — любого типа пафоса, — но маркеры действуют лишь когда воспринимаются читателем как маркеры. Естественно, автор может так или иначе рассчитывать на своё представление о собственной целевой аудитории и ставить понятные ей маркеры, но и ЦА бывает довольно разнородной, и текст может выйти за пределы ЦА и, соответственно, иначе функционировать в чуждой ему среде.
Таким образом, можно сказать, что содержание вовсе не упаковано в форму, структуру — содержание возникает исходя из отношения читателя к структуре. Сама роль структуры в смыслопорождении отходит на второй план, а на первый выходит эстетическая парадигма читателя, сквозь которую "проходит" эта структура. Коды и маркеры могут считываться, могут не считываться, а могут и вовсе придумываться читателем — так или иначе, сам факт существования каких-то кодов и маркеров в структуре ещё ничего не значит, более того — сам "факт существования" констатируется читателем, а значит, уже имеет место функционирование текста в рамках определённой парадигмы, что превращает факт в субъективное мнение.
Художественный текст — это шифр, для понимания которого не существует единственного верного кода — код подбирает каждый самостоятельно, получая при дешифровке собственные результаты. Содержание такого шифра определяет код, а не сами шифрованные закорючки.
***
Оппонент: 1. Автор-дальтоник решил нарисовать зелёный круг, но ошибся и взял красную краску.
Это плохая подача.
2. Автор нарисовал зелёный круг, зрители-дальтоники увидели, что круг красный.
Это плохое восприятие.
Несмотря на подачу и восприятие, на холсте имеется краска определённого цвета, что можно установить спектрофотометром. А если и нельзя - краска от этого не изменится.
3. Автор нарисовал зелёный круг, зритель знает только треугольник. Это - выпадение из культурного кода.
Visioner: дело же не в цвете краски, а в отношении к цвету. В первом случае решения автора ничего не играют - есть факт зелёного цвета и отношения зрителя к нему. Кому интересно, что там хотел автор? Важно то, что увидели зрители - от их реакции на произведение зависит дальнейшее бытование этого произведения. С другой стороны, разрыв между утверждением автора (скажем, название картины "Зелёный круг") и восприятием этого круга у зрителей толкает последних на порождение новых смыслов по типу "автор хотел сказать, что...". Если произведение искусства выполняет свои и эстетические, и даже интеллектуальные функции, почему его подача должна считаться плохой? Плохо то, что неэффективно или вредно.
Во втором случае зрители-дальтоники создают особую референтную группу, культурное пространство, которое иначе понимает эту картину и иначе к ней относится. Если внезапно эта парадигма генерализуется, то в историю искусства картина "Зелёный круг" попадёт как понятая в качестве красного круга. Но эта парадигма скорее всего не станет генеральной, что никак не делает её хуже — это делает её альтернативной, ведь и эстетические, и интеллектуальные функции картина вполне может выполнять и при такой трактовке (а интеллектуальные функции даже перевыполняет, благодаря разрыву, о котором я писал выше, что для кого-то является дополнительным эстетическим стимулом).
А сама краска без зрителя — это просто краска и не является произведением искусства.
В третьем случае зритель начинает сопоставлять незнакомый круг и знакомый треугольник, то есть, пропускать картину через собственную парадигму. В итоге этого сопоставления у него будет собственный взгляд на эту картину. Скажем, несоответствие круга треугольнику негативно повлияло на эстетическое восприятие картины, и зритель говорит: "Это плохая картина, потому что автор не умеет рисовать треугольники, они выглядят иначе". А может, напротив, воодушевиться незнакомой фигурой и сказать: "Это новое слово в искусстве, потому что я о нём ещё не слышал!".
Обрати внимание на эти два высказывания. Любая оценка любого произведения искусства в итоге сводится к этим схемам: отрицательная к первой, а положительная ко второй. Что уже говорит о том, что любая оценка ставится исключительно со своей колокольни.
О таланте и стратегиях критики
Если рассматривать талант в искусстве с точки зрения теории эстетических парадигм, то становится ясно, что это на самом деле не какой-то "искусственный" (музыкальный, художественный, поэтический) талант, а лишь талант конъюнктурный, талант угождать вкусам (эстетическим запросам) своей референтной группы, талант оперировать необходимыми культурными/эстетическими кодами с целью снискания одобрения необходимых читательских слоёв — тех, которые диктуют вкусы (прежде всего в рамках генеральной и ближайших альтернативных парадигм) и пишут историю, или тех, чей вкус популярен в той среде, на которую ориентируется автор.
Талантлив Скриптор — переводчик с авторского на всеобщий (читательский). Искусство возникает как попытка выражения невыразимого, бессознательного, эмоционально-чувственного. Но это выражение не просто так, а для кого-то. В противном случае лучшим музыкальным выражением собственного чувства было бы беспорядочное бренчание по клавишам пианино, поэтическим — бессловесный крик, возглас, вздох, а изобразительным — брызганье краской куда попало (никто не спорит, во всеобъемлющем и всепринимающем искусстве есть и такие практики). Но многих ли читателей удовлетворит такое произведение? Читателю необходим знакомый код для восприятия, в том числе восприятия чистого, "эротического" (С. Зонтаг) — под кодом здесь подразумевается не столько система интерпретируемых знаков, сколько бессознательные ассоциации, с одной стороны, резонирующие с эмоциональным опытом читателя, а с другой, удовлетворяющие его эстетическим запросам (обе стороны неразрывно связаны, эстетические запросы во многом зависят и от эмоционального опыта).
На основании определённых общих кодов и возникает любая крупная эстетическая парадигма (в которую входит больше одного читателя). И далее, талантливым будет считаться тот автор, который способен писать на основных кодах парадигмы и удовлетворять эстетическим запросам тех, кто этой парадигмой руководствуется.
Практически подобное определение уничтожает понятие таланта. В этом случае, казалось бы, талантлив каждый, поскольку уж для самого себя он точно способен выразиться на понятном коде и удовлетворить свои запросы. Но это верно лишь наполовину.
Не стоит забывать, что автор и сам является читателем, чьи вкусы и запросы тоже могут входить в одну из крупных парадигм. В случае несоответствия своего творчества ценностям своей же парадигмы у автора возникает диссонанс, он не считает себя самовыразившимся и стремится овладеть необходимыми кодами. Это и будет считаться "повышением уровня", "овладением мастерством", "развитием таланта".
Однако в целом же следует признать, что перед художником стоит проблема не "профессионализма", "таланта" или "мастерства", а проблема поиска своей аудитории, проблема величины этой аудитории и проблема значимости этой аудитории в обществе.
Если же говорить о критическом осмыслении произведения с этих позиций, то тут возможны три стратегии, каждая со своими плюсами и минусами.
Первая и самая распространённая, пожалуй, — оценка произведения с позиции парадигмы, которой руководствуется критик. Плюс: критик как представитель парадигмы, чаще всего господствующей, показывает ожидаемую реакцию остальных её представителей на произведение — а это целая читательская группа. Минус в том, что критик может оценивать просто чуждое ему и его ценностям произведение как плохое, тем самым как бы оказываясь виновником того, что в определённой среде, где к нему (критику) прислушиваются, будет предвзятое отношение к произведению (вполне вероятно, что доброе слово обеспечило бы в той же среде добрую славу).
Вторая чаще реализуется в случае совпадения парадигм автора и критика или хорошего знакомства критика с творчеством автора в целом (а такое часто бывает при совпадении парадигм) — это оценка произведения с позиции той парадигмы, к которой себя относит автор. Положительный момент здесь в возможности соотношения результата с запросами (которые автор, видимо, стремился удовлетворить), то есть, в возможности "оценить свой уровень". Отрицательный в том, что это лишь реакция узкого круга целевой аудитории, а как воспринимают произведение за её пределами — неизвестно.
А третья — это самая нетипичная стратегия: трактовка произведения в рамках такой парадигмы, в которой оно может восприниматься как хорошее (качественное, талантливое, удовлетворяющее запросам). Это самостоятельный акт критика — помещение произведения в систему ценностей, не характерную ни для критика, ни, возможно, даже для автора, но в которой текст имеет ценность. Разумеется, минус подобного подхода в том, что автор не получает отклика ни от своей, ни от альтернативной читательской среды. Зато плюс — своего рода "легитимизация" текста, его оправдание, наполнение смыслом и ценностью. Это помогает расшатывать тоталитарные установки самоуверенной генеральной парадигмы, способствует эстетической толерантности и укреплению позиций маленьких и непопулярных парадигм — это узаконенное другими (читателем, критиком), а значит, частью общества, право на личное высказывание.
Естественно, что лучше всего комбинировать эти "чистые" стратегии, что поможет свести минусы к минимуму, а плюсы объединить.